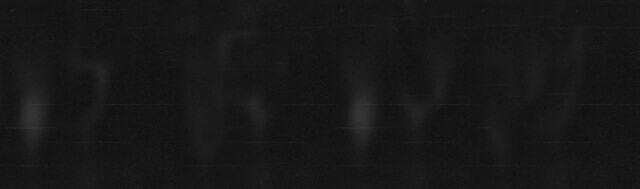23 февраля исполняется 139 лет со дня рождения Казимира Севериновича Малевича, художника-авангардиста, философа, теоретика искусства, основоположника супрематизма. Электронекрасовка публикует размышления Малевича о поэзии, опубликованные в 1919 году в журнале «Изобразительное искусство», находящемся в редком фонде Библиотеки Некрасова.
 Казимир Малевич (1879, Киев — 1935, Ленинград)
Казимир Малевич (1879, Киев — 1935, Ленинград)О поэзии
1. Поэзия, нечто строящееся на ритме и темпе, или же темп и ритм побуждают поэта к композиции форм реального вида.
2. Поэзия — выраженная форма, полученная от видимых форм природы, их лучей — побудителей нашей творческой силы, подчиненная ритму и темпу.
Иногда поэт реальную форму мира облекает в ритм и темп, а иногда побуждает поэта буря восставшего в нем ритма чистого, голого к созданию стихотворений без форм природы.
В первом поэт перебирает кладовую — природу вещей, беря подходящее по форме и по содержанию в себе ритма и строит строку в неустанно текущем ритме и темпе.
Законченное стихотворение зависит или от определенной высказанной мысли, или угасания в себе ритма. Последнее наивернейшее состояние и отношение. В первом случае мысль, во втором напряжение.
Есть поэзия, где поэт описывает клочок природы, подгоняя его под загоревшийся в нем ритм, есть поэзия, где ритм идет в угоду формы вещей.
Есть поэзия, где ради ритма уничтожает поэт предметы, оставляя разорванные клочки неожиданных сопоставлений форм. Есть поэзия, где остается чистый ритм и темп, как движение и время, здесь ритм и темп опираются на буквы, как знаки, заключающие в себе тот или иной звук. Но бывает, что буква не может воплотить в себе звуковое напряжение и должна распылиться. Но знак, буква зависит от ритма и темпа. Ритм и темп создают и берут те звуки, которые рождаются ими и творят новый образ из ничего.
В других случаях, например, в описании вечера, сенокоса, — здесь природа очаровала поэта, и он хочет оправить ее в ритм, сделать ее поэтической, передать ее поэзию уже в иной форме, сами вещи являются довлеющими, а ритм, как орудие обработки. Здесь под ритм и темп подгоняются вещи, предметы, их особенности, характер, качество и т.д.
То же в живописи и музыке.
В художнике загораются краски цвета, мозг его горит, в нем воспламенились лучи идущих в цвете природы, они загорелись в соприкосновении с внутренним аппаратом. И поднялось во весь рост его творческое, с целой лавиной цветов, чтобы выйти обратно в мир реальный и создать новую форму. Но получается совершенно неожиданный случай. Разум, как холодильный колпак, превращает пар опять в капли воды, и бурный пар, образовавший нечто другое, чем был, превратился в воду.
Тоже лавина бесформенных, цветовых масс находит опять те формы, откуда пришли ее побудители. Кисть художника замалевывает те же леса, небо, крыши, юбки и т.д.
Тоже художник объема, скульптор — форма его главный побудитель, вызывающий в нем силу нового, особенного строения и, как таковая, иногда заставляет отдалять свой побудительный прообраз.
Но и здесь объемовед вырубает те же формы, рубит старое, не может никак съехать в сторону от Венеры.
Буря форм, их новая конструкция, новое тело под колпаком сводится к Венере Милосской, к Аполлону. А то настоящее, творческое, новое, лежит в отрубленных кусках под ногами Венер и фавнов. В отбитых кусках мрамора, глины, дерева отрубилось то сокровенное, что лежит в пустых формах виденных скульптур.
Жизнь не создала для поэта слова, специально для его поэтического творчества, и он сам не позаботился об этом.
Предметы родили слова, или слово родило предмет, а утилитарный разум приспособил их к своему обиходу, он был большим работником и пожалуй главным в создании себе знаков для своего удобства.
Поэт пользуется всеми словами и в свою очередь хочет их приспособить к своему переживанию, к нечто такому, что может быть ничего не имеет ни с какой вещью и словом, если я скажу «плачу» — разве можно исчерпать в слове плачу — все. Если я скажу «тоскую» — тоже. Все слова есть только отличительные знаки и только. Но если слышу стон — я в нем не вижу и не слышу никакой определенной формы. Я принимаю боль, у которой свой язык — стон, и в стоне не слышу слова. Я целиком слышу, что чувствует, что терпит, нежели напишу «стонет». И сам стонущий больше облегчает себя в стоне, нежели говорит, что болит. Ибо «болит», есть добавочное, пояснительное о стоне, о его причине.
Поэт даже не поступает так, как живописец и скульптор. Он не возвращает полученное от форм природы природе. Ибо природа получила одежду разумом, он ее одел для отличия, все тончайшие ее отростки, в обувь, платье, качество и т.д.
И поэт говорит лишь через одежду «об одежде» о тех отличительных знаках, которые нужны разуму, его гастрономии, его ломбарду.
Для поэта не всегда солнце бывает солнцем, луна — луною, звезды — звездами. Поэт может перемешать все названия по-своему. Ведь может сказать, что потухло солнце.
Но с точки разума, оно вовсе не потухло, а зашло.
Пользуясь совсем неподходящими средствами — в поэте тоска и почти на редкость бывают стихотворения, где бы поэт не плакал, не тосковал о невозможности передать то, что хотел сказать о природе, ибо хотел говорить о природе, а говорит в стихотворении об одежде, о слове. А она хотя и сшита хорошо, но все же не то тело, о котором хотелось говорить.
Еще впуталась «она», «любовь», «Венера» — с ней поэт совсем закис, застонал и ищет спасения в смерти.
Поэту присущи ритм и темп и для него нет грамматики, нет слов, ибо поэту говорят, что мысль изреченная есть ложь, но я бы сказал, что мысли еще присущи слова, а есть еще нечто, что потоньше мысли и легче и гибче. Вот это изречь уже не только что ложно, но даже совсем передать словами нельзя.
Это «нечто» каждый поэт и цветописец-музыкант чувствует и стремится выразить, но когда соберется выражать, то из этого тонкого, легкого, гибкого — получается «она», «любовь», «Венера», «Аполлон», «Наяды» и т.д. Не пух, а уже тяжеловесный матрац со всеми его особенностями.
Ритм поэты чувствуют, но силу его, силу своего настоящего употребляют, как спаивающее средство. Себя обкладывают предметами, подчищая их, подтачивая, или просто подбирая друг к другу, и спаивают, связывают ритмом.
Самое подбирание и составление форм в темпе и ритме и есть характерность, отделяющая поэта от поэта.
Сходство их в пользовании одними и теми же вещами и песни о «ней» в постановке есть мастерство. Пушкин достиг большого мастерства, может быть и многие другие достигали и достигают молодые поэты.
Но мастерство, как таковое, грубое, ремесленное даже в том случае, когда говорят о художественности и еще вплетают «красота», а если хотят еще тоньше выразить говорят «одна поэзия».
Поэт есть особа, которая не знает себе подобной, не знает мастерства или не знает, как повернется его Бог. Он сам внутри себя, какая буря возникает и исчезает, какого ритма и темпа она будет. Разве может в минуты, когда великий пожар возникает в нем, думать о шлифовании, оттачивании и описании.
Он сам, как форма, есть средство, его рот, его горло — средство, через которое будет говорить Дьявол или Бог. Т.е. он, поэт, которого никогда нельзя видеть, ибо он поэт закован формой, тем видом, что мы называем человеком.
Человек-форма такой же знак, как нота, буква и только. Он ударяет внутри себя и каждый удар летит в мир.
Поэт слушает только свои удары и новыми словообразованиями говорит миру, эти слова никогда не понять разуму, ибо они не его, это слова поэзии поэта.
И когда разум выявил их в понятие, они реальны и служат единицею мира. Будучи непонятым, но действительно реальным.
Мысль исчезла; как неуклюжее, громоздкое стихотворение лежит неподвижным камнем векового образования.
Стихотворения всех поэтов представляют, как комок собранных всевозможных вещей, маленькие и большие ломбарды, где хорошо свернутые жилеты, подушки, ковры, брелоки, кольца и шелк, и юбки, и кареты уложены в ряды ящиков по известному порядку, закону и основе.
Строка очень странная, наивная, может наивность и велика, но мне она тоже наивна и собою напоминает нечто примитивное.
Способ, которым передавал поэт свое, очень забавный.
Если рассмотреть строку, то она нафарширована, как колбаса, всевозможными формами, чуждыми друг другу и незнающими своего соседа.
Может быть в строке лошадь, ящик, луна, буфет, табурет, мороз, церковь, окорок, звон, проститутка, цветок, хризантема. Если иллюстрировать одну строку наглядно, получим самый нелепый ряд форм.
Ими поэт хочет рассказать свою «душу», ими рассказывает о «любви», о «ней». Не знаю, можно ли формами природы высказать исчерпывающее свое внутреннее слышание, слышится ли оно в образах лошади, Венеры, солнца, луны, хризантемы, — мне кажется, что нет.
Все стихотворение состоит из названий отличительных, из свойств, качеств и ощущений, вкусов и т.д. «Гудели колокола» — страшно, грубо и несуразно. Разве в слове «гудели» поэт дал то гудение, которое он слышал и что переживал в этом гудении — я уверен, что поэт переживал очень многое. Он слушал гул, забыв о всем, ибо звуки будили в нем необычайные движения.
А в стихотворении только указывается, что «гудели», так скажет всякий. Разуму нужно отличить, что колокола в это время гудели и чтобы было понятно положение того, кто был в месте, где гудели, народ толпился у церкви.
Один расскажет, другой расскажет в стихотворении, третий споет о «крестном ходе» и «плачущей малютке», четвертый напишет красками.
Никто из них не доволен и все плачутся, стонут; я думаю, что если бы плотнику пришлось строить дом и он собирал все предметы и вещи, как они есть в природе, и стал складывать все предметы и вещи, как они есть в природе, в дом, то тоже наплакался бы. И в этом случае разум поступает иначе, он претворяет каждую вещь природы в неузнаваемый вид, создавая совсем иное тело. Он смешивает разнородные по виду формы в одну и творит новый вид и форму, какой нет в природе. Тоже церковь, тоже колокол.
Чем же отличаются наисвободнейшие творцы, певцы сверхземного. Люди, заглядывающие в иной мир, «боги», приписывающие себе обладание большим и сверхчеловеческим, нежели природа, земля.
В этом случае они только думают о «сверхе», но на самом деле нет ничего, кроме реальных, ими не сделанных колоколов, их звука и т.д.
Поэты и художники, музыканты больше слушают звон колоколов, нежели себя.
Они трусы, привыкшие к оковам вещей, без которых не могут жить.
Но голос настоящего неустанно звучит в каждом из них, но принять его, как он есть, боятся, ритм и темп колышит неустанно поэта, но поэт берет его и одевает лошадей, колокола и т.д., и на хвостиках строки висит настоящее созвучие того, что должно занять первое место и показать себя во всю.
Поэт боится выявить свой стон, свой голос, ибо в стоне и голосе нет вещей, они голые, чистые образуют слова, но это не слова, а только ради буквы — в них. В них нет материи, а есть голос его бытия, чистого, настоящего, и поэт боится самого себя.
Ритм и темп включают образ поэта в действо. Сам же невидим и невидавший мир, незнающий, что есть в мире, ибо это знает только разум, как буфетчик свой шкап.
Буфетчик принимает настоящее и охорашивает свои предметы. Венера в поэтическом костюме, «могила в хризантеме», «он», «она», — все это обуто в особую высшую обувь ритма.
А самого поэта нет, есть мастер дел «обувных» и только.
Поэт не мастер, мастерство чепуха, не может быть мастерства в божеском поэта, ибо он не знает ни минуты, ни часа, ни места, где воспламенится ритм.
Может быть в трамвае, улице, площади, на реке, горе, — с ним будет пляска его Бога, его самого. Где нет ни чернил, ни бумаги и запомнить не сможет, ибо ни разума, ни памяти в данный момент не будет у него.
В нем начнется великая литургия.
Тоже дух, дух религиозный (мне кажется, что дух не один, а несколько, или может один, но попадая в индивидуальные особенности — по-иному говорит).
Дух церковный, ритм и темп — есть его реальные выявители. В чем выражается религиозность духа, в движении, в звуках, в знаках чистых без всяких объяснений — действо и только, жест очерчивания собой форм, в действе служения мы видим движение знаков, но не замечаем рисунка, которого рисуют собой знаки. Высокое движение знака идет по рисунку, и если бы опытный фотограф сумел снять рисунок пути знака, то мы получили бы графику духовного состояния.
Церковный религиозный дух находится в таком же владении буфетчика, также обвешен значениями знаков, каждый знак превращен в символ чего то, стал недвижим, неуклюж, как носильщик. Носильщиком в данный момент и есть служитель, но в большинстве случаев служители церковные религиозного духа — носильщики, которые из нош сделали себе кусок хлеба.
Такие носильщики живут, как клопы в щелях, они не сбегут. Но есть служители, которые хотят служить по требованиям голоса религиозного духа и вошедшие в дом облеченный в багаж утвари церковной — бросают и бегут.
Люди, в которых религиозный дух силен, господствует, должны исполнять волю его, волю свою и служить, как он укажет, телу, делать те жесты и говорить то, что он хочет, они должны победить разум и на каждый раз, в каждое служение строить новую церковь жестов и движения особого.
Такой служитель является Богом, таким же таинственным и непонятным — становится природной частицей творческого Бога.
И может быть постигаем разумом, как и все.
Тайна — творение знака, а знак реальный вид тайны, в котором постигаются таинства нового.
Своим действом будит присущий ему дух в других и в этом пробуждении он приемствен и приемственность таинственна и непостижима, но реальна.
Подобный служитель, действующий, образует возле и кругом себя пустыню, многие боясь пустыни бегут еще дальше в глушь сутолки.
И через пустыню он по настоящему выйдет в народ и народ в него, и если народ почувствует родственность в себе его, воскликнет с ним каждый по иному, — но едино.
И будут едины, пока не сгорит служитель. Тот, на которого возложится служение религиозного духа, — являет собой церковь, образ которой меняется ежесекундно.
Она пройдет перед ними движущаяся и разнообразная.
Церковь — движение, ритм и темп — ее основы. Новая церковь, живая, бегущая сменит настоящую, превратившуюся в багажный, железнодорожный пакгауз.
Время бежит и скоро должны быть настоящие.
В поэзии уже промчались бегом первые лучи нового поэта, свободного от искусства мастерства, легкого и свободного. Гортань его зеркально чиста и говор его чист и нет в нем вещей неуклюжих — ведь ужасен современный и прошедший поэт.
Черна гортань его, выползают слова-вещи: табурет, розы пахучие, женщины, гробы и тучи — это какой-то ящер, изрыгающий вещи, без разбору глотавший все.
Лучи нового поэта осветили буквы, но их назвали набором слов. Что можно без труда набрать сколько хочешь. Такие отзывы были среди мудрейших старейшин.
Пушкин мастер, может быть и кроме него много мастеров других, но ему почет, как старейшей фирме. Есть много мастеров других профессий и много старейших фирм — везде искусство, везде мастерство, везде художество, везде форма.
Само искусство — мастерство есть тяжелое, неуклюжее и по неповоротливости мешает чему-то внутреннему, тому, о чем часто говорят мастера художественного «достигнуть трудно и нельзя», нельзя передать натуры и нельзя высказать себя.
Все искусство, мастерство и художество, как нечто красивое — праздность, обывательщина.
Самое высшее считаю моменты служения духа и поэта, говор без слов, когда через рот бегут безумные слова, безумные ни умом, ни разумом непостигаемы.
Говор поэта, ритм и темп делят промежутки, делят массу звуковую и в ясность исчерпывающие приводят жесты самого тела.
Когда загорается пламя поэта, он становится, поднимает руки, изгибает тело, делая из него ту форму, которая для зрителя будет живой, новой, реальной церковью. Здесь ни мастерство, ни художество не может быть, ибо будет тяжело земельно загромождено другими ощущениями и целями.
Улэ Эле Лэл Ли Оне Кон Си Ан
Онон Кори Ри Коасамби Моена Леж
Сабно Оратр Тулож Коалиби Блесторе
Тиво Орене Алиж.
Вот в чем исчерпал свое высокое действо поэт, и эти слова нельзя набрать и никто не сможет подражать ему.
Почитать журнал «Изобразительное искусство» № 1 за 1919 год можно в электронной библиотеке Некрасовки.